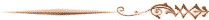 6
6 
Пару лет назад, когда нам было пятнадцать, однажды днем мы торчали у меня дома: валялись на кровати и читали какие-то журналы, посвященные «Формуле-1», в моей комнате. Кровать стояла совсем рядом с открытым окном, которое выходило в сад. В саду сидели мои родители и разговаривали; дело было в воскресенье. Мы не интересовались их беседой, мы читали, но в какой-то момент невольно стали прислушиваться, поскольку они заговорили о матери Луки. Видно, не заметили, что он у меня в гостях, и принялись обсуждать его мать. Дескать, она — мужественная женщина, жаль, что ей так не повезло. И добавили что-то насчет того, какой тяжкий крест уготовил ей Господь. Я взглянул на Луку: он улыбался и знаком попросил меня не шевелиться и молчать. Казалось, беседа моих родителей его забавляет. И мы стали слушать дальше. Там, в саду, моя мама говорила, что, должно быть, это ужасно — жить с таким больным мужем, вероятно, бедная женщина страшно одинока. Потом она спросила у отца, не знает ли он, как продвигается лечение. Тот ответил: мол, врачи все испробовали, но, как известно, такие болезни нельзя излечить.
— Остается только надеяться, — заметил отец, — что он не надумает покончить с собой рано или поздно.
Говорили они об отце Луки. Мне стало стыдно за их слова, я снова взглянул на Луку, а он знаком показал мне, что ничего не понимает, не знает, о чем они. Он положил мне руку на колено: хотел, чтоб я не двигался и не шумел. Ему хотелось послушать. Там, в саду, мой отец говорил о чем-то под названием «депрессия» — очевидно, это такая болезнь, ведь речь шла о лекарствах и докторах. В какой-то момент мой отец произнес:
— Наверно, это ужасно для жены и для сына тоже.
— Бедняжки, — поддакнула моя мать. Немного помолчала и повторила: — Бедняжки.
Она так назвала Луку и его маму, потому что им приходилось жить бок о бок с больным. Она сказала, что остается только молиться и что сама она именно так и поступит. Потом мой отец встал — оба они встали и вернулись в дом. А мы инстинктивно уткнулись в свои журналы про «Формулу-1», боясь, что дверь в комнату вот-вот откроется. Но этого не произошло. В коридоре раздались шаги моих родителей: они прошли в гостиную. А мы сидели неподвижно, и сердца наши учащенно бились.
Однако из комнаты надо было как-то выбираться, и это получилось у нас не слишком удачно. Когда мы уже были в саду, мама вышла из дома, чтобы спросить меня, когда я намерен вернуться, и тут заметила Луку. Она поздоровалась с ним, назвав его по имени — голос ее при этом звучал удивленно и растерянно, — и смолкла, хотя в любой другой день, несомненно, добавила бы что-нибудь еще. Лука обернулся к ней и ответил:
— Добрый вечер, синьора.
Он произнес это учтиво, как ни в чем не бывало. Мы отлично умеем притворяться. После этого мы ушли, а мама продолжала стоять на пороге, неподвижно, с журналом в руке, заложив страницу указательным пальцем.
Некоторое время мы молча шли рядом. Оба были погружены в свои мысли. Потом нам пришлось переходить через дорогу, и я поднял глаза, чтобы посмотреть на проезжавшие мимо машины, а потом на какой-то миг взглянул на Луку. Глаза его покраснели, он шагал повесив голову.
Дело в том, что у меня и в мыслях никогда не было, будто его отец болен; по правде говоря, как это ни странно, Лука тоже никогда ни о чем таком не задумывался, и это обстоятельство очень показательно, оно помогает понять, какие мы. Мы слепо верим нашим родителям, то, что мы видим дома, кажется нам правильным и гармоничным порядком вещей, образцом душевного здоровья. Именно за это мы и обожаем своих родителей: они надежно защищают нас от всего ненормального. Поэтому невозможно и мысли допустить, что они сами ненормальны — больны. Матери не бывают больными, только усталыми. Отцы в принципе не могут разориться — они иногда нервничают, не более того. Некоторое недомогание, которого мы предпочитаем не замечать, иной раз принимает форму болезней с конкретными именами — но в семье их никогда не произносят вслух. Обращаться к врачам не принято, в случае чего просят совета у семейных докторов, друзей, вхожих в дом и облеченных нашим доверием. Там, где хорошую службу сослужила бы настойчивость и суровость психиатра, они предпочитают взывать к дружбе врачей, с которыми знакомы всю жизнь, — добродушных, приветливых и столь же несчастных.
Нам это кажется нормальным.
Так, сами о том не подозревая, мы наследуем неспособность к трагедии и предрасположенность к ее более легкой форме — драме: мы отвергаем реальность зла, откладывая до бесконечности трагический исход событий, поднимая длинную волну размеренной и постоянной драмы — болота, в котором все мы выросли. Это абсурдная жизнь, состоящая из подавляемой боли и постоянной цензуры. Но мы не в силах осознать, насколько она абсурдна, потому что, подобно рептилиям из болота, только этот свой мир и знаем, болото для нас и есть нормальное существование. Поэтому мы способны переваривать огромные дозы неблагополучия в обмен на ощущение того, что все идет как должно, — мы и не подозреваем, что тайные раны надо лечить, скрытые переломы — сращивать. Точно так же нам неведомо, что такое гнусность, так как любое обнаруженное отклонение от нормы со стороны окружающих мы инстинктивно принимаем как неотъемлемую часть все той же нормальности. Например, когда в темноте приходского кинотеатра рука священника залезала нам между ног, мы не испытывали гнева; вместо этого мы поспешно стремились убедить себя в том, что так и должно быть, священники часто запускают туда руки, и не следует даже обсуждать это дома. Нам было двенадцать-тринадцать лет. И мы не отбрасывали руку священника. И в следующее воскресенье принимали причастие из той же руки. Мы тогда умели это делать и умеем до сих пор, — так неужели же нам не под силу депрессию назвать изысканностью, а несчастье — благопристойностью? Отец Луки никогда не ходит на стадион, потому что не любит находиться среди толпы, — мы это знаем и расцениваем как проявление душевной утонченности. Мы привыкли считать его отчасти аристократом: он всегда так молчалив, даже когда выходит прогуляться в парк. Он ходит медленно, смеется отрывисто, словно нехотя. Машину не водит. На нашей памяти он ни разу не повысил голоса. Все это кажется нам проявлениями высокого достоинства. Нас не настораживает то обстоятельство, что все вокруг него всегда по-особенному веселы, — если быть точнее, изображают веселье, но это никогда не приходит нам в голову; подобное особое веселье мы трактуем как дань уважения к нему, ведь он чиновник министерства. В общем, мы считаем его таким же отцом, как все остальные, только немного более загадочным, может быть, немного отстраненным.
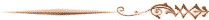 6
6 

