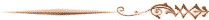 8
8 
«Вспомни, как было в университете, всех щупали, всех проверяли на вшивость, дергали одного за другим. Где, – он обвел рукой, забирая широкую окружность, – где, скажи на милость, по-другому? Одно и то же, сообщающиеся сосуды. Ты думаешь, в церкви иначе?» – кривясь, Митя погрозил пальцем. Муж включился мгновенно. Вскинув голову, он заговорил о митрополите Вениамине, о затопленных баржах, полных людьми, о непримиримой церковной памяти, ничего не отпустившей этому государству. Он говорил об обязанностях здесь родившихся, о том, что народ достоин лучшего, и лицо его искажалось ненавистью, однако в устах, научившихся высокомерию, она принимала какую-то стертую форму. «Да что говорить, если у верующих отнимали детей, отправляли в интернаты, лишь бы не допустить религиозного воспитания…» – «Ну, в интернаты не только у верующих». Я видела, Митя устал и сник. Уже из последних сил, не поднимая глаз, он сказал, что у всех, родившихся здесь, есть одна обязанность – ненавидеть.
Теперь, когда он выговорил ключевое слово, напряжение отпустило его, однако напор, с которым он говорил до последнего, не прошел даром: муж взял примирительный тон. В сущности, речи не идет о карьере, он пошел на мелкую, незначащую должность, некоторую особость которой придает лишь место работы. В любой нормальной стране никто не обратил бы внимания – учитель и есть учитель. «Все, на что я настроился, – учить литературе. Если бы я пошел, например, в Лесгафта, ты бы и ухом не повел». Мысль о физкультурном институте смягчила напряжение. Улыбаясь, Митя ответил, что, возможно, его собеседник прав. Кто-то должен раскрыть книги перед клириками, отнюдь не испорченными знаниями такого рода. «В преддверии новой Реформации, – он усмехнулся. – Ну что ж, станешь видным гуманистом на манер Томаса Мора. Бог даст, еще обличишь их схоластику и напишешь собственную “Утопию” – на радость новым большевикам, – Митя говорил весело. – Помнится, Мор страсть как любил обличать пороки духовенства». – «Угу, а в награду мне торжественно отрубят…» – ухмыляясь, муж пристукнул по столу ребром ладони.
«Ладно, поставь что-нибудь, послушаем, и – поеду». Муж поднялся с места и, как-то смущенно улыбнувшись, пошел к магнитофону. Расхристанные бобины лежали горкой. Он искал, перебирая. «Даже не знаю… Может, о Корчаке или бегунов на длинные…» Я обрадовалась – первой шла моя любимая «Легенда о Рождестве»… Митя пожал плечами, мне показалось, недовольно. Муж приладил пленку.
Прислушиваясь к медленному шуршанию, я ждала, что голос, здесь берущий выше обычного, вступит глуховато и неспешно: «Все шло по плану, но немного наспех, а впрочем, все герои были в яслях, и как на сцене заняли места…» Я уже вздохнула, готовясь соединить свое дыхание с первой строкой, но голос, выбившийся наружу, взял ясно и низко: «Фантазии на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов: тенора и баритона». Муж обернулся вопросительно. Митя закивал.
Это была страшная песня. Тенор, вступавший первым, тянул гласные, выламываясь в камаринской. Из-под плясовой, еще не видный и не слышный, готовился выступить баритон. Замирая, я ждала перехода: каждый раз, сколько ни слушала, он давался мне с трудом. Веселый говорок, словно давая волю уродливой радости, выделывал последние коленца. Баритон вступил холодно: «Значит так, на Урале холода – не пустяк, города вымирали, как один подыссяк… Нежно пальцы на горле им сводила зима, а деревни не мерли, а сходили с ума…»
Я взглянула на Митю, надеясь разделить с ним подступающие болью слова, но то, что увидела, отвлекло от слов. Сидя в глубоком кресле, Митя подпевал едва слышно, и в его лице, открытом для моих глаз, проступали два человека – попеременно. Первый, уродливый кривляка, ломал брови и расплывался глуповатой улыбкой, второй, угрюмый ненавистник, набычивался и шевелил губами. От тенора к баритону и обратно Митя проговаривал каждое слово, вслушиваясь внимательно. «Нет никакого гуманизма. Вот, убитые и убийцы, – ладонью он коснулся стола, – от этого вам и в церкви не деться. Это вам кажется, что выжившие остались живы. На самом деле их тоже убили». Теперь, словно сойдя со сцены, Митя заговорил собственным тихим голосом. Сияющая ненависть ушла из его глаз.
Спокойно и печально, отстраняясь от всех, кому не деться, он говорил о том, что раздвоение личности, случившееся с целым народом, – неизлечимая болезнь: народ-шизофреник. Этому народу реформация не поможет. Те, он махнул рукой, имели дело с непорушенным сознанием. Его тихое опустевшее лицо больше не казалось набрякшим. Привычная Митина непримиримость размывалась горькими словами, под которыми, словно въевшаяся усталость, лежала боль, похожая на мою сегодняшнюю автобусную тоску. Эта боль, которую я распознала, приковывала мои глаза. Неотрывно я глядела на глубокие складки, резавшие углы его губ.
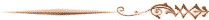 8
8 

