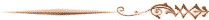 14
14 
— Да ты что, Петр Дементьевич! — Василий Антонович даже папиросу выронил. Пошарил, пошарил рукой по земле под ногами, не нашел, взял другую. — Господь с тобой, как говорится в народе! Болтовня! Вот же, смотри, слонище из мухи разрастается! — Он в нескольких словах рассказал историю с пистолетом, с протоколом, с дополнительными записями.
— Черногуса я знаю, — сказал Лаврентьев. — Мне он казался довольно тихим, интеллигентным старикашкой. Ну не без желчи, понятно. Еще когда я в колхозе работал, он к нам за семенами да саженцами ездил. Приедет, критикует нас. Но в пределах обычного. Удивляюсь: маузер!
— Маузер — маузером. Но нельзя же из этого старичка террориста делать! Ты давай по рукам, Петр Дементьевич, тому, кто болтовней такой заниматься станет. Слышишь? Пойдем-ка спать лучше.
4
Разбудили Василия Антоновича стук и бряк. Открыл глаза. В окнах было светло. Косые лучи всходящего солнца покрыли бронзой старую березу перед домом. Прислушался: стук был отрывистый, металлический. Это был стук рогача о чугуны, стук чугунов бок о бок, глухой скрежет чугунных доньев по кирпичному поду печи, возле задней стены которой стояла раскладушка Василия Антоновича. Приложил ладонь к беленным известью кирпичам — горячо. Хозяйка готовит завтрак — и людям, и корове, конечно, и поросенку, его повизгивание тоже слышно со двора.
Вспомнил свою мать Василий Антонович. Вот так же вставала до света в любую пору года. Колола лучину, растапливала печь, гремела ведрами, сливая колодезную воду в кадку, толкла толкушкой горячий картофель в большом чугуне — тоже для коровы и для поросенка. Потом начинала печь оладьи. И только тогда — не от предшествовавшего стука и бряка, а именно от этого вкусного запаха оладий, от стрельбы масла на сковороде, — просыпались и Васятка, и два его брата, и сестренка, всей оравой спавшие на печи. Бежали потом в школу по снегу — то мокрому, метельному, то скрипучему от мороза; в холщовых сумках, на которых было химическими карандашами жирно выведено: «Василий Денисов», «Михаил Денисов», «Никита Денисов», «Люба Денисова», вместе с книгами и тетрадями несли и те испеченные матерью замечательные лепешки. Бежали в разные классы. Школа состояла из четырех классов, и в каждом из них было по представителю семьи погибшего в гражданскую войну крестьянина Антона Денисова, который как ушел в солдатчину в пятнадцатом году, так больше домой и не вернулся.
Он, Василий Антонович, своего отца не помнил — родился за год до его ухода, — был самым младшим в семье. И, чтобы все они, четверо, смогли окончить четырехклассное, мать с утра до ночи, по двадцати часов в сутки, вертелась белкой в колесе, сама пахала поле, одалживая коня и соху у соседей, сама копала огород, сбивала масло, шила, стирала, мыла полы, ездила в Ямбург на базар, чтобы продать это масло да картошку и выручить на керосин, на одежонку, на сапоги; в лесу она сама заготавливала дрова на отведенных делянках, сама их пилила, колола, возила…
Василий Антонович отбросил одеяло; было больно вспоминать о трудной жизни матери. Они, ребята, ей помогали, как могли. Но много ли они могли тогда?
— Петр, вставай! — сказал он, потрогав Лаврентьева за плечо. — Проспали.
Лаврентьев выпростал из-под одеяла мускулистые, крепкие руки, потянулся.
— Сон видел хороший. Будто мы с тобой, Василий Антонович, в зале заседаний в Большом Кремлевском дворце, и нам перед полным залом переходящее знамя вручают, за отличную работу. Овации, понимаешь, объятия. Весь президиум нам руки жмет.
Он встал, в майке, в трусах; принялся приседать, разводить руками, вращать туловищем — делал утреннюю зарядку.
Проснувшийся Костин сказал:
— А я вот этого не могу, гимнастику. Врачи предписывают, надо, говорят, а то обмен будет плохой. Соберусь, начну заниматься. День пройдет, два — и обязательно чем-нибудь заболею. Раз десять так было, теперь и пытаться перестал.
— А я с детства, с пионеров. И ничего, выдерживаю, — сказал Лаврентьев. — Последний раз во время войны болел. Зуб схватило, на Волховском фронте. На передовой. Где там зубные врачи — никто не знает. Всей батареей лечили. Один говорит: «Товарищ командир, товарищ старший лейтенант, водка хорошо помогает». — «А как, говорю, внутрь или на зуб?» — «Да ведь кому как, говорит, мне, говорит, лучше, когда внутрь. Ну, вы и то и другое попробуйте». Второй махорку жевать предлагает. Третий — кислоты какой-нибудь покапать. Наконец-то один врач из медсанбата приехал. «Щипцы, говорит, у меня есть, чем дергать. Но только, предупреждаю, товарищ старший лейтенант, я не зубной врач, ничего этого не умею, я невропатолог, по части нервных болезней. Рискнете?» А что было делать? Рискнул. Вдвоем за эти щипцы ухватились — выдрали. А больше вот как-то болеть не приходилось. Если, конечно, не считать того, как меня колхозный бык чуть было на тот свет не отправил, да ранения на фронте, из-за чего рука долго не действовала, да и то вернулась к жизни тоже через физические упражнения.
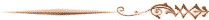 14
14 
