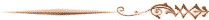 2
2 
Я живу в старой гостинице в стиле «арт-деко» на Джейкоб-Хэмблин-роуд – бетонированной улочке, которая так вьется и изгибается на протяжении двух кварталов от бульвара Сансет до бульвара Санта-Моника, что, стоя в начале ее, не видишь конца. Даже для Лос-Анджелеса, города, знаменитого непоследовательностью своих улиц, таких как Национальный бульвар и Сан-Висенте, улиц, абсолютно неподвластных линейной логике, которые пропадают с одной стороны города лишь затем, чтобы внезапно появиться на другой стороне, Джейкоб-Хэмблин-роуд насчитывает несколько безумных поворотов за свою короткую жизнь. В тридцатые годы «Отель Хэмблин» был построен киностудиями, чтобы селить там молодых красавчиков и звездочек, приезжающих со всей Америки на кинопробы; другими словами, он превратился в частный бордель для продюсеров и кастинговых агентов. Апартаменты Абдула на первом этаже раньше служили фойе, мраморным, просторным. Теперь, заодно с пунктуацией входящих и исходящих телефонных коммюнике, получаемых и отправляемых незамужними жительницами отеля, комнаты и ночи оглашаются яростными гомосексуальными совокуплениями. По утрам я просыпаюсь от крика, доносящегося откуда-то изнутри гостиницы. «Я устал от этой жизни!» – кричит кто-то с такой силой, что с трудом верится, будто этот человек и вправду умирает, но с такой мукой, что еще трудней поверить, будто он шутит.
С течением лет «Хэмблин» утерял свой элегантный и слегка развратный вид, захирев на манер «Кабинета доктора Калигари». Своды арок, украшенные резными молниевидными зигзагами, облупились, а двери, изначально выполненные в подражание австрийским шале, покрыты слоем белой краски. Уныние поселилось в темных коридорах гостиницы, где волей безымянного художника колышутся на стенах огромные кувшинки в коричневых тонах. Перед гостиницей, зависнув над именем Джин Харлоу, размашисто вписанным в тротуар, находится последняя в Лос-Анджелесе пожарная лестница – факт, который я принял к сведению недавно, когда один из встречных пожаров перескочил за демаркационный барьер и грозился перетечь к югу от Сансет. Мой новый люкс – на верхнем этаже в юго-восточном углу здания, в нем восемь огромных окон, доходящих до потолка и открывающихся на все стороны света, кроме севера. С одной точки в квартире можно смотреть одновременно на восток, на запад и на юг. Туманы Санта-Моники наполняют третье окно, в первое и второе втиснуты нависшие холмы Голливуд-Хиллз, у подножия которых и стоит «Хэмблин»; наверху гряды холмов качаются силуэты крохотных бесплодных пальм, а под ними виден Стрип, по которому передвигаются фигурки японских амазонок-официанток, курсирующих между суси-барами. Каждый день в четыре часа утра на крышу серебряно-стеклянной громады старого клуба «Сент-Джеймс» украдкой приземляется вертолет, и в этот момент огни башни гаснут.
В окнах номер четыре, пять и шесть – постоянные вспышки встречных пожаров. В окнах семь и восемь – дождь их пепла.
Я люблю этот пепел. Я люблю бесконечные дымные сумерки Лос-Анджелеса. Я обожаю ходить по бульвару Сансет мимо бистро, в которых голливудский сброд вынужден перед едой стряхивать черную сажу со своих лингвини с лососем в белом винном соусе. Я люблю проезжать одно черное кольцо за другим, до самого моря, сквозь обуглившиеся ограды мимо покинутых домов, из открытых окон которых слышно, как включаются и выключаются автоответчики, записывая внезапные, как гром среди ясного американского неба, сообщения откуда-то восточней Мохаве. У меня кружится голова еще со времени уличных беспорядков десятилетней давности, когда я отрывался от работы над своей последней книгой и шел на крышу, наблюдая, как меня окружает первое кольцо пожара, устроенного мародерами. Иногда я все еще поднимаюсь на крышу, и пожары все еще горят. Они выжигают мертвую полосу между мной и будущим, заключая меня в настоящем, и определение любви сводится к моему взгляду, что обводит тлеющую панораму, в то время как Вив, мой маленький чувственный хорек, пожирает меня, стоя на коленях. Я надеюсь только на то, что мечты мои будут кремированы, и мне это нравится; когда умирают мои мечты, оживаю я, и тогда мне не занимать золы и энтузиазма. Не жди, что мне станет стыдно. Не жди, что проснется и пострадает мое чувство общественного долга. Моя совесть затронута только тогда, когда я предаю лично себя, а не общество; пожар выжигает еще одну границу – между мной и чувством вины. В эту конкретную эпоху, когда секс является последним возможным подрывным действием, я – партизан, испускающий совесть белым потоком, который не гасит ни одного пожара, кроме своего собственного.
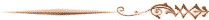 2
2 

