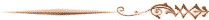 206
206 
— Всюду ее следы, — заговорил Луи Мур. — Вот здесь она сидела, прекрасная и беззаботная. Ее позвали, она, конечно, заторопилась и забыла прибрать свой стол. Почему даже в ее небрежности столько прелести? Откуда у нее этот дар — быть очаровательной даже в неряшливости? Ее всегда найдется за что побранить, но сердиться на нее невозможно. Я думаю, ее возлюбленный или муж, если даже вздумает поговорить с ней всерьез, то все равно закончит свой выговор поцелуем. Да это и естественно! Куда приятнее перебирать ее недостатки, чем восхищаться достоинствами любой другой женщины! Но что это я бормочу? Уже начал разговаривать сам с собой? А ну-ка, замолчи!
Луи замолчал. Он стоял и раздумывал. Потом начал устраиваться, чтобы приятно провести вечер.
Прежде всего он опустил шторы на широких окнах, за которыми сияла царственная луна, подкинул угля в жаркое, прожорливое пламя и зажег одну из двух свечей на столе. После этого он пододвинул к столу другое кресло, поставил его как раз напротив первого и уселся. Затем извлек из кармана небольшую, но толстую записную книжку, достал карандаш к начал покрывать чистые страницы неровным, убористым почерком.
Не бойся, читатель, не скромничай! Подойди поближе, встань за его спиной и посмотри, что он там пишет.
«Сейчас девять часов, раньше одиннадцати коляска не вернется, я уверен. Значит, до одиннадцати я совершенно свободен и могу сидеть в ее комнате напротив ее кресла, облокотившись о ее стол. Все вокруг напоминает мне о ней.
Раньше мне нравилось Одиночество, — я воображал его тихой, строгой, но прекрасной нимфой, ореандою,[134] которая спускалась ко мне с отдаленных вершин. Одеяние ее — из голубого горного тумана, в дыхании ее — свежесть горных ветров, в осанке ее — величавая красота заоблачных высот. В те времена я радовался ее приходу и мне казалось, что на душе у меня легче, когда она со мной, безмолвная и великолепная.
Но с того дня, когда я позвал Ш. в классную комнату, когда она пришла и села со мной рядом, поделилась со мной своей тревогой, попросила о помощи, воззвала к моей силе, — с этого дня, с этого часа я возненавидел Одиночество. Это холодная абстракция, бесплотный скелет, дочь, мать и подруга Смерти.
Как приятно писать о том, что так близко и дорого сердцу! Никто не отнимет у меня эту маленькую записную книжку, а своему карандашу я могу доверить все, что хочу, все, что не смею доверить ни одному живому существу, о чем не осмеливаюсь даже подумать вслух.
С того вечера мы почти не виделись. Однажды, когда я был в гостиной один, — я искал там оставленную Генри книгу, — она вошла, уже одетая для концерта в Стилбро. Робость, — ее робость, а не моя, — разделила нас, точно серебряным занавесом. Много я слышал и читал о «девичьей скромности», но если не насмехаться над словами и употреблять их к месту, — это самые верные слова. Когда она увидела меня, застенчиво, но ласково поклонилась и отошла к окну, единственные слова, которыми я мог назвать ее тогда, были «непорочная дева». Для меня она была вся нежность и очарование в ореоле девической чистоты. Может быть, я самый бестолковый из мужчин, потому что я один из самых обыкновенных; однако, говоря по совести, ее застенчивость глубоко меня тронула, пробудив самые возвышенные чувства. Боюсь, что в этот миг и выглядел совершенным чурбаном, но когда она отвела взгляд и тихонько отвернулась, желая скрыть румянец смущения, я, признаюсь, почувствовал себя на седьмом небо.
Я знаю, все это пустая болтовня мечтателя, греза восторженного романтического безумца. Да, я грежу и не хочу расставаться с моими грезами. Разве я виноват, что она вдохнула столько романтики в мою прозаическую жизнь?
Временами она бывает таким ребенком! Какое простосердечие, какая наивность! Как сейчас, вижу ее глаза, — она смотрит на меня, умоляет не отдавать ее на растерзание родне и требует клятвы, что я дам ей сильный наркотик. Вижу, как она признается мне, что не так уж сильна и вовсе не так равнодушна к сочувствию людей, как о ней думают; вижу ее затаенные слезы, тихо бегущие из-под ресниц. Она жаловалась, что я считаю ее ребенком, — так оно и есть на самом деле. Она воображала, что я ее презираю. Презирать ее! Невыразимо сладостно было чувствовать себя так близко от нее и в то же время выше ее, сознавать, что имеешь право и возможность поддержать ее, как муж должен поддерживать жену.
Я преклоняюсь перед ее совершенством, но сближают нас ее недостатки или во всяком случае слабости, — именно они привлекают к ней мое сердце, внушают мне любовь. Оттого я и ценю их по самой эгоистичной, хотя и понятной причине; ее недостатки — это ступени, по которым я могу подняться выше нее. Если бы вся она составляла искусственную пирамиду с гладкими склонами, не на что было бы ступить ноге. Но ее недостатки образуют естественный холм с провалами и мшистыми обрывами, — вершина его манит, и счастлив тот, кто ее достигнет!
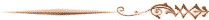 206
206 

